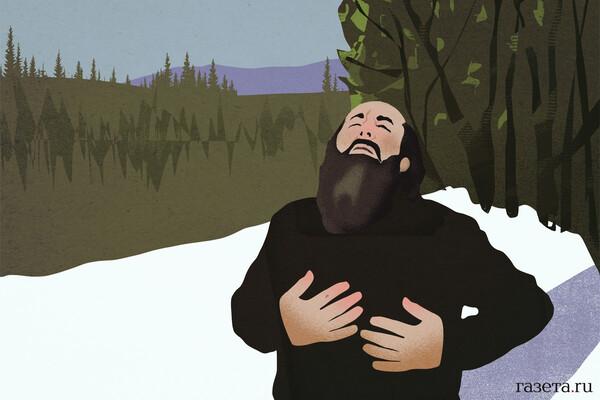35 лет назад Михаил Сергеевич Горбачев вернул советское гражданство Александру Исаевичу Солженицыну. К 1990 году советское гражданство нуждалось в Солженицыне значительно больше, чем он в нем, потому что было ясно, что само явление советского гражданства доживает последние месяцы, нужно было успеть хоть что-то с ним сделать. Например, вернуть на Родину Солженицына. Тогда же его восстановили в Союзе писателей РСФСР, отменив решение об исключении, принятое правлением в 1969 году.
Привилегиями советского паспорта Александр Солженицын в 1990 году не воспользовался: в Россию он приехал, когда паспорт снова стал недействительным по объективным историческим причинам. В мае 1994 года самолет американской авиакомпании Alaska Airlines, выполнявший рейс Анкоридж-Владивосток, совершил посадку в Магадане, к толпе, окружившей самолет по трапу, спустился бородатый Солженицын. Вопреки распространенному мифу, он не встал на колене и не поцеловал землю. Он наклонился и дотронулся до земли рукой и сказал, что эта колымская земля стала могилой для тысяч, а может быть, и миллионов наших соотечественников.
Вот на последнем высказывании строится вся критика Солженицына со стороны вольнонаемной адвокатуры исчезнувшей навсегда советской власти — говорят, что никакие миллионы не гибли, вермонтский мудрец все выдумал. Так появился мем о «миллиарде расстрелянных лично Сталиным».
1980-е годы — период острого дефицита не только товаров народного потребления, но, в первую очередь, идеологии. Никто уже не верил в построение коммунизма, никто не молился на Ленина и даже на Маркса. Было очевидно, что даже если учение последнего верно, оно уж точно не всесильно — не получается по нему построить что-то лучшее, чем у других получается без него. Все больше людей бывали в странах Запада, все яснее и ярче формировалось представление о том, как люди живут там — в какие магазины ходят, на каких автомобилях ездят. И нельзя винить людей в том, что они судят о жизни по магазинам и автомобилям. В конце концов, идее человек служит тоже не просто так, а чтобы рано или поздно наладить собственный быт.
К концу 80-х стало очевидно, что машина Советского Союза не может ехать вперед, если никто не верит, что впереди ее ждет что-то потрясающее. Старая идея построения коммунизма не то чтобы умерла, она скорее выродилась и стала смешной. На ее замену ничего не было. Что интересно, левые режимы всегда нуждаются в многотомных обоснованиях своих идей, а режимы, основанные на рыночной экономике, почему-то обходятся без всей этой макулатуры. Просто вот теперь можно торговать, и как-то так оно само собой дальше заводится и едет. Потом на этом выстраивают государственные и общественные институты, потом наступает умеренное благоденствие при совершенном неравенстве.
Однако умирающий Советский Союз и возникшая на его могиле новая Россия не могли оставить свое общество без идей. Нужны были новые мудрецы и пророки. Тогда и вспомнили о пророке не столько новом, сколько изгнанном. И Солженицын с удовольствием согласился таким пророком быть. В его возвращении было что-то диктаторское, что-то северокорейское — френч, отдельный железнодорожный вагон, пресс-конференции, похожие на проповеди, и статья с обескураживающе пафосным названием «Как нам обустроить Россию».
К концу 90-х, когда все было уже забыто за ненадобностью, Солженицын остался писательем, автором «Матрени Двора». Эта книга, не имеющая ничего общего с обличительным пафосом, является простой и откровенной деревенской прозой. Она рассказывает о бесправных людях — русских крестьянах, превращенных в советских колхозников, о тех, кто готов отдать последнее, ничего в общем-то не имея. Солженицын с любовью и пониманием рассказывает о них, показывая, что «отдав собственную горницу, Матрена погибает на железнодорожном переезде». В этом и величие настоящей литературы — при желании там можно найти ответы гораздо больше чем вопросы, заданные автором. И, как оказалось, Солженицын не просто писатель, но и источник полезных слов, таких как «картовь», «картонный суп», «обапол», «межень» — слова, которые сохранялись благодаря его прозе и помогали описывать различные регионы и диалекты.
В конечном счете, Солженицын продолжает возвращаться к нам, независимо от гражданства. Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции.